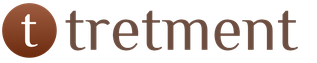Отвечает михаил мун. Михаил Мун: Коллективное расчесывание разума — дело приятное Михаил мун семья
В «Википедии» про Михаила Муна (а раз о тебе есть статья в свободной энциклопедии, значит, ты персона известная) написано забавно: «радиоведущий». И только во вторую очередь написано, что «в первую очередь он известен как игрок «Что? Где? Когда?». Обладатель «Хрустальной совы»
И о чем вовсе не написано в энциклопедии, так это о том, что главная работа Михаила Муна — «коммерческий директор компании, которая занимается импортом химического сырья». Но мы-то все равно не об этом спрашивали — а о том, что, где и когда. Тем более что недавно наблюдали игру команды Андрея Козлова, в которую входит наш собеседник. Тогда, напомним, победили знатоки.
— Михаил, вы сколько лет в игре?
— Понятно, что я не сразу начал играть в телевизионном клубе. В спортивное «ЧГК» попал на первом курсе, в 1991 году. А в телевизионный клуб — в конце 1997-го.
— Для вас игра «при Ворошилове» и игра с нынешним ведущим, Борисом Крюком, чем-то принципиально отличаются?
— Конечно, передача — очень авторская. Ведущий «ЧГК» — это, при всем уважении, не ведущий, допустим, «Поля чудес», где есть формат. «Что? Где? Когда?» в первую очередь отражает личность ведущего и личности знатоков. Потому Ворошилов и говорил: это игра не про ответы на вопросы, это игра про людей.
И Владимир Яковлевич, и Борис — тоже участники игры, но я бы сказал, что при Ворошилове это была больше игра против Ворошилова: он брал на себя роль раздражителя, элемента давления. Борис, как мне кажется, старается быть посредником между знатоками и какими-то другими агентами давления — зрителями, вопросами, турнирной ситуацией. Он только направляет эту силу, не беря на себя роль самой силы.
— У команд разный характер. Какой характер у вашей?
— У Андрея Козлова довольно оригинальный подход, который он даже навязывает нам, игрокам команды.
Как он говорит, когда вопрос задан, ответ на него уже существует — у ведущего, в ноосфере, в коллективном бессознательном команды. И в определенном состоянии командного резонанса мы способны этот ответ вытащить в сознательное. И чтобы этого состояния достичь, Андрей использует определенные психологические методы — проще говоря, стремится ввести команду в состояние сильного стресса.
— Да? Уж кто на взводе, так это капитан Андрей Козлов…
— Стресс — не в смысле нервного напряжения, а в смысле давления. Игра, наверное, это на 20% размышление и на 80% — концентрация. Это доказывается тем, что знатоки, когда не сидят за столом, а либо стоят рядом, либо смотрят игру дома, берут вопросы гораздо чаще. За столом мешает ответственность… Телекамеры — в меньшей степени, к ним привыкли.
Сконцентрированная команда выигрывала бы со счетом 6:3 — 6:4, а так обычно выигрываем со счетом 6:5 либо проигрываем 5:6. На грани. У экрана телевизора я возьму 80% суперблицев, а за столом — 10%, а то и меньше.
— Как члены команды сыгрываются? Вы же из разных городов…
— Ну, каждый в команде с большим опытом игры. Другое дело, что надо притереться.
Мы встречаемся обычно за день до игры, в пятницу, проводим небольшую командную тренировку, примерно три игры. Это скорее оргмомент: настроиться друг на друга — кто-то чуть громче кричит, кто-то недостаточно четко формулирует. А день игры посвящаем психологической настройке, отработке концентрации. У нас есть традиция, Андрей ее неоднократно озвучивал: собираемся вместе, обедаем и идем смотреть какой-нибудь боевик. Чем глупее, тем лучше.
До того как я стал играть в команде Козлова, практиковал обратное: до последнего момента сидел в номере гостиницы, читал какую-нибудь скучную ерунду вроде дамского романа, полностью разгружая органы чувств, чтобы они, согласно моей гипотезе, в нужный момент обострились. Андрей идет от обратного: загрузить органы чувств, при этом не напрягая интеллект. Серьезных научных исследований этих методик не проводилось — а жаль: интересно узнать, что эффективнее.
— Как брать вопрос? Вот сама техника…
— Вопрос в «ЧГК» — это не загадка мироздания. Мироздание говорит с нами на том языке, на котором ему вздумается. А человек пишет вопрос для того, чтобы его можно было взять. При этом пара «вопрос — ответ» должна являть собой небольшое произведение искусства. «Кто написал «Евгения Онегина»? — Пушкин» — это не пара, потому что реакция на такое: «Ну и что тогда?» А если так — значит, наверное, ответ не верен. Ищи другой.
Или, например, если в вопросе какое-то слово кажется неестественным — наверное, в нем ключ.
Есть вопросы, в которых сразу понятен ход размышлений: например, надо перебирать оперы или французских королей. Бывают вопросы, от которых поначалу берет оторопь. В недавней игре нашей команды был детский вопрос: «Антонина не умеет плавать, Николай работает на лесоповале, а где работает Евгения?» У меня на первой секунде была паника — я не понимал что делать. Слава богу, что у Алены Александровой мозг сработал в правильном направлении: надо превратить Антонину в Тоню, Николая в Колю — и тогда становится очевидно: Тоня — тонет, Коля — колет, а Женя тогда женит, и работает она в загсе.
Что забавно — телезритель, допустим, сразу догадался и посмеивается: простой же вопрос, вот дураки-то.
Вопросы «ЧГК» на самом деле — некий метаязык, овладев которым, ты на 70% решаешь проблему взятия вопроса.
— Мы, зрители, тоже отгадываем. Но, может, редакция игры специально подбрасывает вопросы полегче, ради нашего самоуважения?
— Владимир Ворошилов в своем основополагающем труде (он же издал две книги по «ЧГК») писал, что для успешной игры в «Что? Где? Когда?» достаточно знаний средней школы. Эта игра вообще не про знания.
— А еще говорят, что спортивное «Что? Где? Когда?» гораздо сложнее телевизионного. Что это вообще такое — спортивное «ЧГК»?
— Это немножко другая игра. Ну как в автомобилестроении: на том же шасси построили автомобиль для другой цели. Цель телеигры — показать столкновение. Это искусство, потому что искусство — в первую очередь «про человека». Личность ставится в крайне некомфортные условия, чтобы под этим давлением ушло все наносное и человек стал таким, какой он есть. Прямой эфир не обмануть. Если ты сосредоточишься на том, чтобы держать свое лицо, маску (мы же все носим маски в обыденной жизни), — ты не сможешь играть, ты будешь только транслировать маску.
Спортивное «ЧГК» тоже интересно. Да любая интеллектуальная деятельность приносит удовольствие: у нас в процессе эволюции образовался разум, и он все время чешется, а игра предоставляет еще и такую услугу, как коллективное чесание разума, что многократно приятнее.
Но спортивное «ЧГК» — это не искусство, это именно спорт. Попытка выявить, какая из команд… не скажу «умнее», потому что хорошие игроки не обязательно умнее плохих игроков... Выявить, кто лучше играет вот в эту конкретную игру.
Если команде Козлова сыграть на чемпионате мира в спортивное «ЧГК» — она будет очень далека от первого места. Лет восемь назад мы бы еще поборолись, но в последние годы спортивная игра стала все больше уходить в абстракции, в такую «игру в бисер». Типичный вопрос нынешней спортивной игры: три икса расположены на игреке, несут на себе три альфы, какое слово в вопросе заменено? При этом есть негласная договоренность: иксами и игреками называют существительные мужского рода, альфы — женского…
— Ох, зачем такие сложности?
— Потому что пакет вопросов в спортивном «ЧГК» должен ранкировать, допустим, 60 команд. Вопрос телевизионного «ЧГК» не должен сепарировать команды, ведь играет всего одна. Поэтому если в спортивном «ЧГК» дать командам вопросы из телевизионного, то на большую часть вопросов либо ответят почти все, либо, наоборот, не ответят почти все — не удастся качественно определить, кто выиграл.
Я периодически хожу разминаться в спортивное «ЧГК», но тут я не столь эффективен, как в вопросах «человеческих». Хотя это дело привычки. Просто другой язык. Вы когда-то учили французский, но не практиковались — и забыли, а поживете в языковой среде — опять заговорите. Если команда сильных игроков в спортивное «ЧГК» сядет за телевизионные вопросы — тут команда Козлова их обыграет. Потому что это наш язык.
— Как вы радиоведущим стали? Потому что футбол любите?
— Шесть лет назад заработало «Радио Зенит», и один из знатоков, Леша Блинов, зная, что я активный болельщик, предложил: давай посотрудничаем. Появилась передача с моим участием, «Игра головой». Я задаю вопросы, слушатели отвечают по СМС, а ведущие в студии не дают заскучать.
Параллельно я приходил гостем-болельщиком в передачу «Футбольное обострение» Феди Погорелова, потом он поехал в Америку на год учиться, я его подменял и прижился. Федя, вернувшись, себе другую передачу придумал, а я продолжаю вести «Обострение».
— Что интересного умный человек находит в футболе?
— Смотрите, игра — неотъемлемая и, наверное, базовая потребность человека. При этом важное свойство игры — в том, что человек всегда понимает, что это не имеет отношения к реальности. Сели мы с вами за шахматы, и вдруг загорелся дом — понятно, что мы бросим игру. Но пока дом не горит — сидим и играем, хотя у нас есть и более важные дела, можно было бы лишнюю копеечку заработать. Нет, сидим, играем. Потому что нравится. Как в известном эксперименте с крысой, которой вживили электрод в центр удовольствия в мозге, и она постоянно жала на кнопку, чтобы этот центр стимулировать, не пила не ела.
Футбол — просто одна из игр. Что в ней умники находят? Ну, все-таки это не крестики-нолики, где два хода и ничья, если не допускать глупых ошибок. В футболе есть место тому, чтобы проявилась личность. Есть место эстетическому удовольствию — футболисты могут делать с мячом то, чего не умеют делать обычные люди. Это игра ума, игра тренеров, которые подбирают футболистов таким образом, чтобы выпятить их сильные стороны и нивелировать слабые — идеальных футболистов ведь нет… Может, только Криштиану Роналду. Это еще и игра с оппонентом, столкновение воль, стратегий.
— Ну да, игра — и почему ж такие жуткие драки в болельщицкой среде?
— Есть целая субкультура околофутбольного хулиганизма, она выработала свой кодекс поведения. Например, дерутся чаще всего по согласованию сторон, в строгом соответствии с дуэльным кодексом. Такой бокс на свежем воздухе. Если я пойду, например, на матч со «Спартаком» в Москве и даже надену при этом розу «Зенита»… ну, может, какой-то дурак засветит мне в глаз, это тоже в правилах игры... Но чтобы я серьезно опасался за свою жизнь — нет.
— Возвращаясь к игре: есть ли определенно нелюбимые виды вопросов?
— Нелюбовь к тем или иным вопросам индивидуальна. Когда мы берем вопрос, происходит выброс эндорфинов, получаешь именно физиологическое удовольствие. Но секундное чувство паники, когда не понимаешь, как рассуждать, дает выброс адреналина или норадреналина, и это очень неприятно.
Лично у меня хуже всего идут вопросы, когда на стол выносят, извините, какую-то фигню: догадайтесь, как ее используют. Мне близки вопросы вроде «продолжите цитату такого-то», потому что это отношения «человек — человек», а когда выносят фигню — тут нет человека. Слава богу, у нас в команде Капустин: если нам дадут непонятный предмет, Капустин либо знает, как его использовать, либо покрутит в руках и догадается.
— Борис Крюк сказал про вас: это игрок не знаний, а феноменальный разгадывальщик. Но знания-то все равно нужны. Почитываете ли энциклопедию, скажем?
— Нет. Просто надо не выпадать из контекста. На работе сижу, скачал из базы пакет вопросов — поиграл. В одиночку мне играть тяжело, поэтому я либо беру вопрос за первую секунду либо сразу открываю ответ.
— А напомните какой-нибудь легендарный что-где-когдашный вопрос…
— «Про яму», например. Конец семидесятых или начало восьмидесятых, финал года, авторы вопросов — в студии. И одна тетенька себя повела неприятно — ну, единственная была против того, чтобы знатокам зачли ответ на какой-то вопрос, даже не ее. (Я не говорю, что дама сама по себе неприятный человек, — это мог быть побочный эффект прямого эфира.) Наконец, пришел ее черед задать вопрос: «Леонардо спрашивал: «Что растет тем больше, чем больше отнимают?» И от себя добавила: «Ответ начинается с конца, а кончается с начала».
Вопрос простой — но знатоки целую минуту тупят. Шизоидный образ мышления, когда ходишь по кругу и не способен из него выйти: «боже мой — я не знаю — что это может быть — я не знаю». Все вокруг уже догадались… На самом деле это отдельный формат просмотра «ЧГК» — наблюдать за игрой, зная ответ: оцениваешь, насколько игроки близки к истине. Так вот, минута истекла — а ответа нет. И Нурали Латыпов, отвечая, вдруг в последнюю секунду: «Яма». Потом родились версии, якобы знатоки знали ответ уже на первой секунде, просто дразнили телезрителя, — но это не так.
— Вы когда-то давно сказали, что не надо маленьких детей отдавать во всякие развивающие садики. По-прежнему так думаете? У вас, кстати, какой «состав детей»?
— Мальчик и девочка… Я считаю, что нельзя развивать детей дисгармонично. Когда ты ребенка куда-то мягко направляешь (о том, чтобы заставлять, и речи нет), надо понимать, делаешь ты это для него или для себя. Есть два полюса, куда очень многие родители впадают: гипертрофированное физическое развитие либо гипертрофированное сухо-интеллектуальное. Учите вы четырехлетнего ребенка брать интегралы — и зачем? Ребенок в четыре года не способен воспринимать абстракции, а эмоциональную сферу, способность сопереживать вы у него «подсушите».
— Вопрос от женской части редакции: на «Что? Где? Когда?» пары часто образуются?
— Я бы не сказал, что пар много или мало. Да, «ЧГК» — я имею в виду вообще движение — это большая тусовка, люди проводят много времени вместе, возникают симпатии, которые превращаются в отношения. Причем много пар из разных городов: в течение года люди могут встретиться шесть раз на турнирах, три часа поиграли, больше делать нечего — идут гулять. В общем, обстановка способствует. Но с другой стороны — люди-то умные, а интеллект на самом деле граничит с эгоизмом, и пары часто распадаются. Потому что… Да мы все люди непростые.
Посвящается Олечке.
© Михаил Валерьевич Жуковин, 2015
© Дарья Асташева, дизайн обложки, 2015
Редактор Ольга Жуковина
Корректор Юлия Милова
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero.ru
Глава 1. Недюжинная реакция кучера
Высоко над бескрайним лесом располагалась деревушка. Находилась она на горном выступе, имевшем форму куска торта. Эта гора обладала странным свойством: никто не мог точно сказать, где она начинается и где заканчивается. Как в высоту, так и в ширину. Вершина скрывалась за плотным слоем серого тумана. Он нависал и над всем лесом, поэтому многие называли его «куполом». Кто-то, правда, считал, что это обыкновенные облака, но даже самые грозные тучи когда-нибудь да расплываются, а этот хмурый настил никогда не рассеивался, разве что в редкие минуты появления солнца. Поэтому в этой деревушке, в этом маленьком мирке, отделенном с одной стороны бескрайней горой, с другой – непроходимым лесом, а сверху – серым волнистым покрывалом, днем всегда было пасмурно, а ночью беззвездно. Здесь было очень трудно мечтать.
Домики деревушки располагались вдоль краев выступа. Большинство из них давно уже развалились, остальные перекосились из-за прогнивших досок в стенах. Некоторые домишки располагались вплотную и подпирали друг друга, другие стояли одиноко на краю перед самой пропастью. Все жители мечтали только об одном: уехать или чтобы что-то изменилось, и такая ветхость строений будто бы говорила обитателям, что долго, к счастью, в любом случае так жить не получится.
Помимо домиков в деревне, прямо в центре выступа располагалась цепочная карусель, а рядом с ней – карета. Если аттракцион стоял тут давным-давно, то роскошная карета прибыла в деревушку этой зимой. Её сюда без лошадей, непостижимым образом затащили дама солидных размеров, увешанная драгоценностями, и кучер.
Женщину звали мадам Кильда. Она когда-то владела большим количеством мастерских по огранке драгоценных камней и, в общем-то, обеспечила себе безбедную старость. Но будучи в возрасте шестидесяти лет, она не желала спокойно жить в своем шикарном доме в королевстве Эльтера Пятого и наблюдать из многочисленных окон, как распускается сирень, и бьет ключом фонтан, построенный по специальному заказу. Наоборот, страсть к приумножению богатства захватила ее с головой. Она ездила в далекие страны, основывала новые мастерские, проверяла старые и, естественно, старалась не пропускать ни одного мало-мальски пафосного собрания богатых людей. Ее приглашали и на королевские свадьбы, и на званые вечера, и на балы – везде она была желанным гостем, поскольку умела располагать к себе. Выгода же от всех этих не очень интересных для нее мероприятий достигалась просто. Появляясь в изысканных украшениях, созданных в ее мастерских, она неизменно оказывалась в центре внимания всех женщин, которые сразу же накидывались с вопросами, где она купила такие роскошные драгоценности. Тем самым мадам Кильда получала много новых богатых клиентов. Словом, ее кошелек все тяжелел, но останавливаться она не собиралась.
В тот злополучный летний день мадам Кильда получила особое письмо. Рано утром посыльный привез в конверте золотого цвета приглашение от императора Каньонных земель. Ее звали на открытие огромной мраморной статуи императора Каньонных земель. Мероприятие должно было начаться вечером этого же дня и запросто могло продлиться неделю. Помимо самого праздника, оно несло в себе много выгоды в виде богатых гостей. К сожалению, Каньонные земли были не слишком близко, не меньше двух дней езды с хорошими лошадьми. К званому вечеру мадам Кильда никак не успевала. Помимо прочего, виноват был, конечно, курьер, который слишком запоздал с приглашением. Случилось это из-за урагана, что настиг его в пути, но даму это мало волновало. Получив от нее ругательств в количестве, достойном создания небольшого словаря, он постарался поскорее умчаться прочь. Дама же, немедля, позвала своего лучшего кучера.
– Сколько нам нужно, чтобы добраться до Каньонных земель? – взбудоражено спросила она.
– Не меньше двух дней, госпожа.
– Нужно быть сегодня вечером!
– С самыми быстрыми лошадьми доберемся не раньше, чем послезавтра…
Мадам Кильда выругалась и стала бродить вдоль и поперек роскошной гостиной с многочисленными картинами, которые она в секрете ото всех считала весьма не красивыми, но купила, поскольку в обществе говорили, что это восхитительные произведения искусства.
– А если через северный Лес?.. – спросила дама, немного успокоившись.
Кучер не спешил отвечать. Он несколько секунд смотрел ей в глаза, но мадам Кильда по всем признакам не пошутила.
– Простите, госпожа, но лучше прорыть тоннель насквозь через ад…
Дама швырнула в кучера тяжеленную настольную лампу. Он, благодаря реакции и опыту общения с госпожой, увернулся.
– Я что, похожа на сумасшедшую?! – закричала дама.
– Нет, что Вы! Просто Вы говорите о… Северном Лесе… Призрачном Лесе? Ехать туда просто так, без армии… Да даже с армией… Это… Это не стоит делать, понимаете?..
Мадам Кильда засеменила короткими толстыми ножками и весьма быстро добралась до кучера.
– Ты думаешь, я такая глупая?.. Не слышала всех этих легенд?.. – зашипела она.
– Конечно, слышали… – прошептал кучер, глядя сверху вниз на даму, боясь пошевелиться.
– Я слышала и про зверей, которые вмиг впиваются в тело и долго терзают, а ты еще жив… и про высокие деревья-исполины, за которыми не видно неба… и что оттуда невозможно выбраться, поскольку нет ни одной правильной карты леса…
Дама смотрела на кучера, а потом захохотала.
– Такой здоровый, а боишься, как малая девка! Я знаю десятки людей, которые выбрались из этого проклятого леса, и ничего с ними не случилось! Пересечем его по прямой за несколько часов и окажемся на месте. Наших лошадей ни одному зверю не догнать…
Дама подошла к шкафу и начала быстро собираться. Кучер тяжело вздохнул. Тон последней фразы госпожи он хорошо знал – это был приказ. И все же, хоть шансов не было, кучер попытался настоять на своем.
– Те люди, госпожа… Которые, как Вы говорите, выбрались из Леса… Они вряд ли пришли и ушли оттуда пешком или на карете. Вы слышали про поезд до Ярмарки?
Дама продолжала собираться.
– Ну-ка, давай, расскажи, что за поезда и Ярмарка такие, – насмешливо сказала она. – Может, будет, чем повеселить людей на вечере. Очередные байки всегда кстати!
Кучер понял, что его всерьез не воспримут, но отступать было нельзя.
– В Лесу есть город, который не похож ни на один другой… Он называется Ярмарка. Говорят, если жизнь твоя зашла в тупик, ты не знаешь, кем быть, что делать, не чувствуешь радости и печали, то тебе стоит туда отправиться. Только путешествие это весьма опасно. На Ярмарку ходит только один поезд, причем никто не знает, с какого вокзала он отправляется, по какому маршруту едет, и где на него можно купить билет. Только волею случая люди становятся пассажирами этого странного поезда. Больше в Лес никак не попасть… если хочешь остаться в живых… Понимаете, госпожа?
Кучер вновь проявил недюжую реакцию (вешалка миновала цель) и отправился в конюшню запрягать лучших лошадей. На всякий случай попрощался со всеми остальными скакунами. Затем пришла пора обнять коневодов. Они не скрывали удивления от такого поведения обычно спокойного, выдержанного кучера.
Скоро транспорт был готов. Дама с помощью служанок собрала багаж, затем отдала им указания по ведению хозяйства («Чтоб всё по приезду блестело!») и уселась в карету. Приобняв чемоданы с платьями и драгоценностями, мадам Кильда подала сигнал кучеру, и лошади погнали во всю прыть. Объяснений, куда умчалась в такой спешке госпожа, и почему так убит горем кучер, ни у кого не было. Так и осталось навсегда загадкой, куда же пропали госпожа с кучером, умчавшись однажды утром.
– Моя мама Ольга Дясековна Ким (в замужестве – Мун) с детства мечтала пойти по отцовским стопам и стать учительницей. Эту мечту перечеркнул 1937 год. Это был недобрый год для большинства советских корейцев, а в истории нашей семьи драма народа соединилась с семейной трагедией.Для Енсона Муна Ольга Ким всегда была красавицей.
В один из августовских дней отец Ольги, директор сельской школы, поехал на совещание педагогов в райцентр и только вернулся домой – стук в дверь: НКВД. С обыском.
По семейной легенде дедушку арестовали за то, что нашли в его сундуке газету с портретом Яна Гамарника, известного в стране военачальника и партийца, который проходил по «делу Тухачевского» и был уже причислен к врагам народа. Но вряд ли именно портрет Гамарника стал причиной ареста. Просто, обнаружив его, энкавэдэшники громко кричали, потому семья и решила, что причина в портрете.
 Бабушка верила, что мужа скоро отпустят. Ну как можно арестовывать человека с такой биографией? О нем книгу впору писать: как в 1919-м участвовал в Корее в восстании против японского господства, был заключен под стражу, но бежал из тюрьмы, сделав с помощью обычных столовых ложек вместе с другими узниками подкоп; как перебрался через Китай в Россию и участвовал в установлении советской власти на Дальнем Востоке…
Бабушка верила, что мужа скоро отпустят. Ну как можно арестовывать человека с такой биографией? О нем книгу впору писать: как в 1919-м участвовал в Корее в восстании против японского господства, был заключен под стражу, но бежал из тюрьмы, сделав с помощью обычных столовых ложек вместе с другими узниками подкоп; как перебрался через Китай в Россию и участвовал в установлении советской власти на Дальнем Востоке…
Арест главы семьи почти совпал по времени со сборами жителей этого села, как и других корейцев Приморья, в чужие края. Корейцы стали первым в СССР народом, который подвергся депортации. Власти обосновывали это решение политической ситуацией: отношения между Страной Советов и Японией ухудшались, японская разведка забрасывала в СССР шпионов и диверсантов, которым в местах компактного поселения корейцев легче было затеряться. К тому же японская пропаганда могла-де находить отклик среди корейского населения. Это было полной чушью: корейцы, столько претерпевшие от Японии на протяжении целых веков, не испытывали к ней ни малейшей симпатии.
В сравнении с последующими депортациями других народов эта, первая, не была такой изуверской. Приморским корейцам сообщили о ней за месяц, селянам дали возможность собрать урожай.
Когда же черный день настал, депортируемых посадили в товарные поезда – по нескольку семей в вагон, оборудованный двухъярусными полками-нарами, – и увезли в Среднюю Азию.
До 1937 года наша семья была довольно зажиточной, хотя в ней был лишь один работник: доходов директора школы хватало. Его жена занималась домашним хозяйством и воспитанием четверых детей. Теперь же они оказались беднейшими из бедных. Вместо того чтобы захватить с собой больше вещей, бабушка тащила объемную корзину с мужниными рукописями. Потому что, прощаясь, он велел их беречь: детей и эти бумаги.
Что было в рукописях, так и осталось загадкой. Они все же потерялись при одном из очередных переездов, но мой дедушка об этом не узнал. Он умер в лагере для заключенных в 1941 году.
Вскоре после приезда на место, которое депортированным корейцам пришлось обживать, у бабушки родился пятый ребенок. Это была девочка, очень слабенькая. Молока у роженицы не было. Она решила, что этот ребенок не жилец, и надо идти работать, чтобы не умерли с голода другие ее дети.
Тогда моя двенадцатилетняя мама подхватила новорожденную и пошла с ней по селу, спрашивая, у кого еще есть груднички? Она умоляла кормящих мам дать хоть глоточек молока и этой крошке. И женщины не могли отказать. Так моя мама спасла свою новорожденную сестренку Лену. (Теперь у моей тети Лены двое детей и трое внуков).
В тот год дети моей бабушки, прежде учившиеся в школе, за парты не сели. Семья сообща боролась за выживание. Зарабатывали чем могли. Ходили по дворам, подбирая выброшенный негодный рис, чтобы сварить кашу. Каша получалась черного цвета, но все-таки это было что-то мало-мальски съедобное.
Дедушка хотел, чтобы его дети стали образованными людьми, и бабушка всегда это помнила. Однажды она собрала своих детей и сказала: «Давайте поможем вашему старшему брату окончить школу и поступить в институт!».
И все согласились помочь. Ее старший сын, мой дядя, выучился на преподавателя английского языка, а годы спустя стал, как и его отец, директором школы.
А моей маме вновь вернуться к школьным занятиям так и не удалось. Она работала в сельхозбригаде и там следовала наказу отца: «Когда берешься за какое-то дело, старайся стать в нем лучшей!». Трудилась ударно.
С моим будущим отцом, жившим в соседнем селе, мама познакомилась уже после войны. Депортированную корейскую молодежь на фронт не брали, но призывали в трудовую армию. Отец работал по такому призыву на шахте в Туле.
Мама к тому времени, как судачили вокруг, засиделась в девках. Ее считали некрасивой, потому что ее внешность не соответствовала тогдашним представлениям корейцев о женском идеале. Красивыми называли круглолицых с небольшим носиком и узенькими глазками. У мамы лицо было скорее японского типа: удлиненное, да еще и нетипичный нос с горбинкой…
Отец в глазах местных юных невест был староват: целых 26 лет! Корейцы ведь тогда заключали браки гораздо раньше.
Но это только к лучшему, что именно так все сложилось. Мои будущие родители оказались словно созданы друг для друга, и чем дальше, тем было очевиднее, что жили душа в душу.
После смерти Сталина депортированным корейцам разрешили свободно передвигаться по стране и самостоятельно выбирать место для проживания. Наша семья решила обосноваться в одном из рисоводческих хозяйств Дагестана.
Жизнь налаживалась. Мы, дети, а нас у мамы было четверо, старались хорошо учиться и вообще не огорчать родителей.
Но вышло так, что радость одной из сестер оказалась для мамы ужасным потрясением. Сестра, выпускница Ростовского грековского художественного училища, встретила парня, между ними вспыхнуло сильное чувство, и они решили пожениться.
Что же в том плохого? Почему эта новость заставила маму греметь, как гром, и метать молнии? Жених оказался не кореец. Он был еврей.
У мамы не было предубеждения против людей других национальностей, пока это не касалось семейного круга. Она считала, что корейцам надо жениться на кореянках, и наоборот. Иначе что же станет с национальными традициями, с родом? Она винила себя, думая, что упустила что-то в воспитании детей, боялась осуждения со стороны корейской диаспоры, которая была в то время в Дагестане довольно консервативна.
В общем, очень сердилась и страдала, на свадьбу не поехала, правда, никому другому из семьи препятствовать в этом не стала. Даже денег дала на дорогу.
Не в восторге она была и от моего решения жениться на русской девушке после неудачной первой попытки построить семью с женой-кореянкой.
Окончательно мир в семью вернулся с рождением внуков: тут мамино сердце растаяло.
Она очень привязалась к моей дочке, научила ее говорить по-корейски. Рассказывала ей на ночь корейские сказки. А, бывало, они пели корейские песни – мама их очень любила.
Мою русскую жену мама научила, как по всем правилам готовить корейские блюда. Ученицей гордилась: жена готовит эти блюда по таким рецептам и технологиям, которые во многих современных корейских семьях уже позабыты.
Когда мы переехали в Ростов, где так много смешанных браков, в том числе и у корейцев, во взглядах мамы на эту сторону жизни что-то изменилось. Она стала снисходительнее и мягче.
Здесь вообще многое оказалось иначе. Здесь мама, возможно, впервые услышала от посторонних людей, что у нее очень интересное лицо: выразительное и притягательное.
На склоне лет у мамы появилась возможность жить, отдыхая от всяческого труда. Но это было не по ней. Она всегда находила себе работу по дому, а безделье считала грехом. Эта была та истина, которая передалась ей от предков. И ничто ее не поколебало.
Записала Марина КАМИНСКАЯ
Имя участника: Михаил Валерьевич Мун
Возраст (день рождения): 25.02.1975
Город: Гатчина, Ленинградская область
Образование: Санкт-Петербургский государственный университет, факультет прикладной математики и процессов управления
Семья: женат, есть сын
Нашли неточность? Исправим анкету
С этой статьей читают:

Радиоведущий и трейдер Михаил Мун известен многим в первую очередь как один из знатоков элитарного клуба «Что? Где? Когда?», но что еще примечательного есть в его биографии?
Миша родился в небольшом городе Гатчина, расположенного в Ленинградской области .
Затем его семья переехала в Санкт-Петербург, где он со временем закончил гимназию № 171.
После школы мальчик направился в Санкт-Петербургский государственный университет, где в 1996 году получил диплом факультета прикладной математики и процессов управления.
Свой роман с игрой «Что? Где? Когда?» юноша начал еще в детстве, когда с нетерпением ждал каждого выпуска и замирал от звуков голоса Владимира Ворошилова. Стоило поступить в ВУЗ как Михаил сразу отправился в клуб по спортивному ЧГК под названием «Коломна».
Именно там Мун научился держать удар, концентрироваться и идти к победе не обращая внимания ни на что вокруг. Именно в спортивном варианте «Что? Где? Когда?» он играл в командах таких знатоков, как Леонид Климович и Сергей Виватенко.
На большой экран Михаил впервые попал в 1997 году и сразу полюбился зрителем . Они видели в нем очень тактичного, приятного и невероятно эрудированного молодого человека. Пытливый ум молодого знатока был отмечен в 2002 году вручением «Хрустальной совы».
Кстати, сам знаток отмечает, что приложил руку к получению сов такими знатоками как Дмитрий Коноваленко, Ровшан Аскеров и даже Максим Поташев.

В 2005 году Мун объявил, что заканчивает свою карьеру в телевизионном варианте программы , но от спортивного формата отказаться не может. Свой уход знаток обозначил просто - пропал азарт да и слегка изменившийся формат программы перестал его устраивать. Правда на тот момент Михаил отмечал, что со временем может заскучать и вернуться, но пока этого так и не произошло.
С этого же 2005 года интеллектуала пригласили в ряды правления Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?». Мун согласился и пробыл в его составе до 2009 года.
Среди других телевизионных программ, в которых отметился Михаил Мун, можно выделить «Свою игру» образца 19 апреля 1995 года.
 Нельзя сказать, что интеллектуальный клуб - единственный интерес и занятие в жизни Михаила. В его карьере есть страница, посвященная радио - он является ведущим сразу двух программ на радио «Зенит».
Нельзя сказать, что интеллектуальный клуб - единственный интерес и занятие в жизни Михаила. В его карьере есть страница, посвященная радио - он является ведущим сразу двух программ на радио «Зенит».
Это «Футбольное обострение» и «Игра головой». В серьезной профессиональной деятельности в активе Муна есть такие должности как:
- Трейдер АО «Брокерская Фирма Ленстройматериалы»;
- Трейдер ЗАО ИК «Энергокапитал».
На данный момент Михаил является директором отдела рынков акций Закрытого Акционерного Общества «БФА».
Личная жизнь знатока давно устаканилась - его супругу зовут Анастасия Гусарова. У этой пары есть сын.
, Ленинградская область , РСФСР , СССР
К:Википедия:Статьи без изображений (тип: не указан)Биография
Окончил гимназию № 171 города Санкт-Петербург , в 1996 году - Санкт-Петербургский государственный университет , факультет прикладной математики и процессов управления.
Работал трейдером в акционерном обществе «Брокерская Фирма Ленстройматериалы» и ЗАО ИК «Энергокапитал»; в настоящее время возглавляет отдел рынков акций в ЗАО «БФА» .
«Что? Где? Когда?»
С 1991 года выступал в составе различных команд в спортивном варианте интеллектуальной игры «Что? Где? Когда? » (до 1993 - в команде Леонида Климовича, затем - в команде Сергея Виватенко). В элитарном клубе с 1997 г.
Осенью 2002 года получил приз «Хрустальная сова ». С 2005 по 2009 годы являлся членом правления МАК .
В 2005 году заявил об уходе из телевизионного Клуба «Что? Где? Когда?» , однако не прекратил участие в спортивном Что? Где? Когда? . Вновь начал выступать в телеклубе уже в 2006 году. На данный момент (ноябрь 2015 года) имеет соотношение побед и поражений в клубе 61,11 % (36 игр, 22 победы) .
Напишите отзыв о статье "Мун, Михаил Валерьевич"
Примечания
Ссылки
Отрывок, характеризующий Мун, Михаил Валерьевич
– Много довольны вашей милостью, только нам брать господский хлеб не приходится, – сказал голос сзади.– Да отчего же? – сказала княжна.
Никто не ответил, и княжна Марья, оглядываясь по толпе, замечала, что теперь все глаза, с которыми она встречалась, тотчас же опускались.
– Отчего же вы не хотите? – спросила она опять.
Никто не отвечал.
Княжне Марье становилось тяжело от этого молчанья; она старалась уловить чей нибудь взгляд.
– Отчего вы не говорите? – обратилась княжна к старому старику, который, облокотившись на палку, стоял перед ней. – Скажи, ежели ты думаешь, что еще что нибудь нужно. Я все сделаю, – сказала она, уловив его взгляд. Но он, как бы рассердившись за это, опустил совсем голову и проговорил:
– Чего соглашаться то, не нужно нам хлеба.
– Что ж, нам все бросить то? Не согласны. Не согласны… Нет нашего согласия. Мы тебя жалеем, а нашего согласия нет. Поезжай сама, одна… – раздалось в толпе с разных сторон. И опять на всех лицах этой толпы показалось одно и то же выражение, и теперь это было уже наверное не выражение любопытства и благодарности, а выражение озлобленной решительности.
– Да вы не поняли, верно, – с грустной улыбкой сказала княжна Марья. – Отчего вы не хотите ехать? Я обещаю поселить вас, кормить. А здесь неприятель разорит вас…
Но голос ее заглушали голоса толпы.
– Нет нашего согласия, пускай разоряет! Не берем твоего хлеба, нет согласия нашего!
Княжна Марья старалась уловить опять чей нибудь взгляд из толпы, но ни один взгляд не был устремлен на нее; глаза, очевидно, избегали ее. Ей стало странно и неловко.
– Вишь, научила ловко, за ней в крепость иди! Дома разори да в кабалу и ступай. Как же! Я хлеб, мол, отдам! – слышались голоса в толпе.
Княжна Марья, опустив голову, вышла из круга и пошла в дом. Повторив Дрону приказание о том, чтобы завтра были лошади для отъезда, она ушла в свою комнату и осталась одна с своими мыслями.
Долго эту ночь княжна Марья сидела у открытого окна в своей комнате, прислушиваясь к звукам говора мужиков, доносившегося с деревни, но она не думала о них. Она чувствовала, что, сколько бы она ни думала о них, она не могла бы понять их. Она думала все об одном – о своем горе, которое теперь, после перерыва, произведенного заботами о настоящем, уже сделалось для нее прошедшим. Она теперь уже могла вспоминать, могла плакать и могла молиться. С заходом солнца ветер затих. Ночь была тихая и свежая. В двенадцатом часу голоса стали затихать, пропел петух, из за лип стала выходить полная луна, поднялся свежий, белый туман роса, и над деревней и над домом воцарилась тишина.
Одна за другой представлялись ей картины близкого прошедшего – болезни и последних минут отца. И с грустной радостью она теперь останавливалась на этих образах, отгоняя от себя с ужасом только одно последнее представление его смерти, которое – она чувствовала – она была не в силах созерцать даже в своем воображении в этот тихий и таинственный час ночи. И картины эти представлялись ей с такой ясностью и с такими подробностями, что они казались ей то действительностью, то прошедшим, то будущим.
То ей живо представлялась та минута, когда с ним сделался удар и его из сада в Лысых Горах волокли под руки и он бормотал что то бессильным языком, дергал седыми бровями и беспокойно и робко смотрел на нее.
«Он и тогда хотел сказать мне то, что он сказал мне в день своей смерти, – думала она. – Он всегда думал то, что он сказал мне». И вот ей со всеми подробностями вспомнилась та ночь в Лысых Горах накануне сделавшегося с ним удара, когда княжна Марья, предчувствуя беду, против его воли осталась с ним. Она не спала и ночью на цыпочках сошла вниз и, подойдя к двери в цветочную, в которой в эту ночь ночевал ее отец, прислушалась к его голосу. Он измученным, усталым голосом говорил что то с Тихоном. Ему, видно, хотелось поговорить. «И отчего он не позвал меня? Отчего он не позволил быть мне тут на месте Тихона? – думала тогда и теперь княжна Марья. – Уж он не выскажет никогда никому теперь всего того, что было в его душе. Уж никогда не вернется для него и для меня эта минута, когда бы он говорил все, что ему хотелось высказать, а я, а не Тихон, слушала бы и понимала его. Отчего я не вошла тогда в комнату? – думала она. – Может быть, он тогда же бы сказал мне то, что он сказал в день смерти. Он и тогда в разговоре с Тихоном два раза спросил про меня. Ему хотелось меня видеть, а я стояла тут, за дверью. Ему было грустно, тяжело говорить с Тихоном, который не понимал его. Помню, как он заговорил с ним про Лизу, как живую, – он забыл, что она умерла, и Тихон напомнил ему, что ее уже нет, и он закричал: „Дурак“. Ему тяжело было. Я слышала из за двери, как он, кряхтя, лег на кровать и громко прокричал: „Бог мой!Отчего я не взошла тогда? Что ж бы он сделал мне? Что бы я потеряла? А может быть, тогда же он утешился бы, он сказал бы мне это слово“. И княжна Марья вслух произнесла то ласковое слово, которое он сказал ей в день смерти. «Ду ше нь ка! – повторила княжна Марья это слово и зарыдала облегчающими душу слезами. Она видела теперь перед собою его лицо. И не то лицо, которое она знала с тех пор, как себя помнила, и которое она всегда видела издалека; а то лицо – робкое и слабое, которое она в последний день, пригибаясь к его рту, чтобы слышать то, что он говорил, в первый раз рассмотрела вблизи со всеми его морщинами и подробностями.